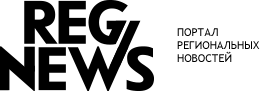Умка: «В последние годы в России ощущение повышения цивилизованности населения»
Очень хотелось бы сказать, что Умку-Аню Герасимову представлять не надо. Но оказывается, многие не знают, что у нас есть такая композитор-музыкант-поэт, и даром что она год за годом ездит и пишет, ездит и пишет. Тридцать лет пишет и двадцать лет ездит… ну или около того.
Вот как представляют Аню у нее в группе в «ВКонтакте»: «Умка — лидер рок-группы «Умка и Броневик», поэт, филолог и переводчик, написала с полтыщи песен и уже два десятка лет ездит с непрерывными концертами по бывшему Союзу, Европе и Америке на радость благодарным слушателям от нуля до бесконечности лет. Песни Умки сделаны по рецептам Боба Дилана, Лу Рида, Джерри Гарсии, Новеллы Матвеевой, Окуджавы и Высоцкого. В них прячутся раскавыченные цитаты и аллюзии, игра смыслов и созвучий и живое человеческое тепло».
И хотя за тепло поручиться сложно (нет такого прибора пока, чтобы измерять там температуру), лучше, наверное, не скажешь. Но хотелось бы добавить, что она еще и полиглот — свободно изъясняется на трех языках: английском, немецком и литовском («Я еще знаю французский, но плохо», — смеется она).
Отыграв в минувший понедельник почти четырехчасовой концерт в «Массолите», Умка побеседовала с RegNews о том, как ей видится Россия вчера и сегодня, что для нее советское прошлое, и что она думает про деятелей культуры и их гражданскую позицию.
— Аня, в этом году будет 20 лет, как я слушаю твои песни. Но вот одна из них, «Сибирь» (написана в 2007 г. — ред.), относительно недавно произвела на меня большое впечатление. Там ты называешь Россию страной «медведей и медвежьих углов» и страной «сугробов в человеческий рост». Есть в этом какая-то заброшенность, даже дикость, как мне показалось. Ты сейчас о ней так же думаешь?
— Я вовсе не считаю эту страну «страной медведей и медвежьих углов». Тем более что медведей осталось очень мало (смеется). Далеко не все, что говорится в стихах или в текстах песен, может быть превращено в прямой вопрос — «считаете ли вы то или это». Мне показалось, что это хорошая строчка для описания этой такой глубокой страны.
— Хорошо, а что тогда ты думаешь сегодня о стране, которую изъездила вдоль и поперек?
— Изъездила скорее вдоль. Там
поперек не очень поездишь: когда ездишь вдоль, там поперек остается один только
север...

— И одна железнодорожная ветка, да. Но тем не менее ты ездила и 10 лет назад, и 20 лет назад. Ощущение от страны у тебя менялось? Чем наше «сегодня» отличается от «тогда»?
— Я не ездила по России последние полгода. Но перед тем последние несколько сезонов у меня было ощущение все большей и большей цивилизованности, так сказать.
В основном, потому что появилось это вот «интернет-поколение». Люди, которые — как бы мы ни ругали интернет — информированы, знают, на чей концерт идут, они все песни знают... Эти люди приходят, зная, а не потому что им какая-то там гражданка позвонила, и они бегут бегом, просто потому что «это что-то крутое» из Москвы, а может быть из Питера. Нет. Эти все знают, они читали все интервью, видели все фотографии... Они даже узнают тебя на улице!
Кроме того, появились совершенно цивилизованные клубы, в которых я раньше никогда не бывала. Приезжаешь туда, и там стоит нормальный аппарат, там все устроено, как положено. Как нужно.
— Цивилизованность — знак времени?
— Да, и это нормально. Если бы все продолжало идти по этому пути, было бы очень хорошо.
— И это главное отличие от нулевых или девяностых?
— Ну да, в последние годы (полгода не была в глубине, не заныривала) было ощущение повышения цивилизованности населения. Я, в общем, когда приезжаю, успеваю, конечно, пообщаться в основном с людьми, к которым я приезжаю. Ну и как-то... В плане снабжения, если имеется в виду (ведь народ у нас сильно зависит от снабжения, да?), были серьезные подвижки. Продукты, лекарства, одежда, все было как в центре, а иногда даже и лучше.
Потому что нефтегаз, все это поднялось. Сибирь стала такая прямо упакованная, тачки классные и зарплата — будь здоров. И соответственно музыкантам удавалось нормально зарабатывать.
Мы же не за гонорар играем. Сколько народу придет на концерт, столько мы
и зарабатываем. И все это шло по неукоснительной, плавной такой... По плавному
такому подъему.

— Но ведь не только тачки же лучше стали?
— Ну что еще? Цивилизованное радио стало. Интервью нормальные стали брать, задавать нормальные вопросы. Вопросы типа «расскажите о себе» задавать перестали.
— Ты сегодня песню исполнила — «Дерево без корней».
— Да.
— Я не слышал ее раньше. Это свежая песня?
— Это песня совершенно старая, из «Заначки», по-моему. Ей уже лет пятнадцать.
— Хотел спросить, что за корни имеются в виду? Знание культуры, истории, уважение к маме-папе?
— Это устойчивое словосочетание — «дерево без корней», типа перекати-поле. Человек, у которого нет четкой привязки к месту. И он может там жить, тут жить.
— Ты дерево без корней?
— Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что я — дерево с корнями. И я врастаю там, куда я... куда меня как бы прикатывает. Я уже, видимо, в такой возрастной категории, что я начинаю больше врастать, чем раньше, и мне сложнее расставаться с этими привязками... Знаешь, я недавно шла по городу Тбилиси. Навстречу шли две русских тетки богемного вида. И одна другой говорила взволнованно: «Ну, я не хочу избавляться от этих привязок! Они мне нравятся!»
Может быть, меня за это осудят, но я не считаю, что привязки — это хорошо. А некоторые мои близкие люди считают наоборот, что привязки— это очень важно, что мы состоим из этих привязок. Что наша личность и есть эти привязки. Ну что тут скажешь? Я на самом деле сильно привязана к этим людям, к этой стране и к этому городу (Москве), про который я сказала много нелицеприятных слов. Мне бы хотелось, чтобы им всем было хорошо...
— Ты недавно была в Грузии, в Белоруссии, в Прибалтике. Ездишь и по странам СНГ, и в Евросоюз вот даже...
— По «бывшим
республикам», я бы так сказала.
— Да. У тебя нет ощущения, что все это в каком-то смысле до сих пор одна страна?
— И да, и нет. Это одна страна, как любая искусственная федерация типа империя. Мы можем сказать, что Австро-Венгрия до сих пор одна страна? В какой-то момент могли. Потом ослабли эти привязки, и перестали так говорить. Но исторические знаки говорят, что многое осталось общим. И архитектура, и общий дух вообще — кафешки, даже общий способ делать пирожные или варить кофе. Такие вот простые вещи. Ушел общий, объединяющий язык. А где-то и не ушел. И ощущается. Приезжаешь в Загреб и все равно чувствуешь, что это какие-то задворки Австро-Венгрии. Были когда-то. Вот Югославия — это одна страна? А Литва и Польша? Там целая геополитическая проблема...
— Но ты лично ощущаешь эти бывшие республики как единое культурное пространство для себя? Хотя бы в плане языка?
— Какого языка? Русского языка в Грузии?
— Но ты же поешь в Грузии на русском?
— Я пою в Грузии на русском, конечно. Петь желательно на родном языке. Но я ведь не ощущаю Грузию русскоязычной страной. Там все по-грузински. Прекрасный, изумительный язык, очень красивый, очень достойный. На котором существует великая литература и прекрасная песенная культура и так далее. То, что Грузия была втянута в орбиту русского языка — это исторический факт (исторический факт не может быть хорошим или плохим).
Это им многое дало, а многое у них отняло... И они сейчас об этом много и культурно рассуждают. Многие люди старшего поколения в Грузии сейчас очень страдают от этого: «Вот у нас молодежь совсем не учит русский, была двуязычная страна, все были двуязычные, а сейчас это уходит...» Зато у них сейчас появляется английский как язык-посредник, язык межнационального общения.
Но я была в Грузии на литовском дне рождения. И это было как-то трогательно и чудесно, когда литовцы и грузины на этом дне рождения произносили тосты по-русски. А как еще, по-английски что ли?
Я ведь смотрю на это с
культурной точки зрения. Мне нравится, когда люди друг друга переводят. Когда
они переводят песни, стихи. Нравится, когда они могут общаться друг с другом на
каком-то общем языке. А как это поворачивается в плане исторической судьбы —
это, к сожалению, не в моей компетенции.

— Я бы хотел поднять еще одну тему — СССР. Как раз с культурной точки зрения. Ты на концерте вспоминала старый советский бобинный магнитофон, который тебе восстановили...
— Это мой любимый магнитофон. Он мне как мама и папа. Мама и папа умерли, а магнитофон живой. Если бы вы его видели, он такой синенький!..
— Ты вообще неравнодушна к технике советских времен? У тебя есть еще что-то такое?
— Есть, конечно. У нас, например, радиолы старые стоят. Мы на них слушаем патефонные пластинки, даже шеллак.
Но это не совсем моя заслуга. Вот Боря Канунников, он хорошо разбирается в старой ламповой технике. Может починить что-нибудь, восстановить...
— И куда только делся у тебя протест против советского прошлого? Помнишь, в 1986 году такая песня у тебя была «По материалам прессы», она же «Марш подонков»: «Мы сидим у вас под носом, портим карму папиросам...»?
— Это что протест?! Ну, сидим и сидим. Я против протеста. Я протестую против любого протеста.
— Я от тебя такого раньше не слышал.
— Всегда так было.
— Тогда это тоже был протест против протеста?
— Да это вообще не было никаким протестом. Вот спрашивают: «Как вы относитесь к движению хиппи?». Я отвечаю: «Это не было движение. Это было, скорее, сидение или лежание». Я вообще не протестант, нет. Когда ты протестуешь, ты всегда ставишь себя на одну доску с тем, против чего ты протестуешь.
— И становишься чем-то похожим?
— Нет, скорее, становишься чем-то другим. Но в целом это, конечно, разнонаправленные стороны одного и того же: «А мы просо сеяли-сеяли! — А мы просо вытопчем-вытопчем!». А в стороне сидит человек на лавочке, читает книжку.
— Вот у нас сейчас, не будем называть имен, одни деятели культуры и искусства порицают других, друг против друга протестуют. Считаешь протест глупостью?
— Я не сказала, что это глупость. Это ты сказал слово «глупость». (Как Иисус Христос, помнишь, «Ты говоришь»). Я про глупость ничего не говорила. Какие-то люди считают, что это умно. Какие-то люди считают, что нужно выбрать, так сказать, «с кем вы, мастера культуры». Ну, молодцы, чо. Это их выбор.
— Но не твой.
— Не мой.
— Я, собственно, не совсем об этом хотел спросить. СССР разваливался, и его обломки становились пищей для творчества, в том числе твоего, как мне кажется. Вспоминаю твою песню, которая для меня всегда читалась как история про ужас школьного экзамена по литературе (и про ужас советской школы вообще): «А мне опять сдавать экзамен / Тургенев, Рудин, мир войне...»
— Это во сне. Это вообще «сонный» текст. Эта строчка, как и вся эта песня, пришла ко мне во сне. Никакого отношения к советской школе это не имеет.
— То есть это не история про советское прошлое?
— Какое!.. Тургенев? Это вообще Россия дореволюционная! Почему?... Я вообще всю эту литературу прочитала мимо школьной программы. И сама по собственному желанию прочла все собрания сочинений Толстого, Достоевского, Тургенева, Гоголя и так далее.
Просто была литературная девочка, читала книжки.
— Да, пожалуй, с темой «культурного кладбища» у меня немного не вышло…
— Какое кладбище?! Я протестую!
(громко смеется) Пушкин бессмертен! Хотя это, кажется, был не Пушкин, а кто там
у нас был... Достоевский?..

— Возвращаясь к песне «Сибирь». Там есть еще такие слова у тебя: «Я тебя собой населю, сонную тебя полюблю / Очеловечу...»
— Не «сонную», а «спящую».
— Да, прошу простить неточность цитирования. Мне тогда эти слова показались очень претенциозными...
— А почему это претенциозно? Если мы по-русски употребляем это слово, а не по-английски, то оно означает, скорее, нечто ложновозвышенное.
— Я скажу иначе, мне обещание очеловечить целую страну показалось самонадеянным. И поэтому хочу спросить, как тебе кажется, удалось тебе страну очеловечить? Может, хоть немного?
— А ты имеешь в виду — «амбициозно»?
— Что-то такое, да.
— Я тебе так скажу. Ты едешь в этом засратом плацкартном вагоне, которую ночь не спавши, и, допустим, там нет кондиционеров (кондиционеры ведь появились только недавно в вагонах). Там все храпят, и носки, и так далее, а ты понимаешь, что у тебя впереди еще двадцать концертов.
И тебе тогда нужна очень серьезная мотивация. Если этой мотивации нет, ты просто никуда не поедешь. Для меня эта была мотивация. Ответ на вопрос — «Зачем я это делаю?». Я делаю это, чтобы очеловечить собою некоторое пространство, населить его собой. Проникнуть туда и, может быть, оплодотворить его.
— И все же вопрос прежний. Получилось?
— Я ничего об этом не знаю.